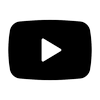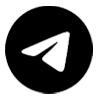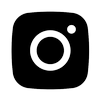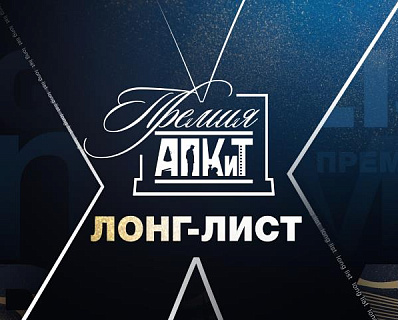Нина Беленицкая: «С Евгением Григорьевым у нас проекты самые личные и долгие»
Драматург, сценарист и писательница Нина Беленицкая рассказала о знакомстве с Евгением Григорьевым, которое началось с ссоры, о проблемах отцов и детей и о литературных планах.

- Как вы познакомились с Евгением Григорьевым?
- Мы познакомились с ним на театральной лаборатории Михаила Угарова в Ясной Поляне в 2007 году, где театральные драматурги представляли замысел, а театральные режиссеры выбирали драматурга вместе с замыслом. За неделю нужно было создать эскиз будущего проекта. В том году Михаил Угаров пригласил не театральных режиссеров, а режиссеров-документалистов. К тому времени у нас уже сложилось уютное театральное сообщество, и вдруг появились чужаки. Лера Гай Германика и какой-то рыжий парень, который очень агрессивно отреагировал на мой замысел пьесы о Павлике Морозове. Он стал мне объяснять, что у меня ничего не получится, потому что я москвичка, а он – с Урала, и по чудесному совпадению родился и вырос неподалеку от Герасимовки – деревни, где жил и умер Павлик Морозов. И уж он-то лучше знает о Павлике Морозове, чем кто бы то ни было.
Началось у нас знакомство как у трех мушкетеров: с ссоры. Я, конечно, не потерпела, чтобы мне кто-то объяснял, что я могу написать, а что нет. Я еще не успела развернуть свою идею, а сразу же получила такую негативную реакцию. Но поскольку были ограничены рамками общей лаборатории, мы неизбежно общались и наш разговор продолжили. И тут я сказала, что у меня есть моральное право на написание этой пьесы, поскольку я сама – Павлик Морозов; я думаю о том, чтобы написать донос на собственного отца. С этого момента всё изменилось, Жене стало очень интересно.
- Можно подробнее с этого места, что за донос?
- Меня очень зацепило в истории Павлика Морозова то, что их семью бросил отец, оставил их без помощи – мать и четырех детей. Они чуть не умерли с голоду, а отец у всех на глазах стал жить с другой женщиной. И когда отца арестовали за то, что он подделывал документы, мальчика спросили, знал ли он об этом, он честно сказал: «Да». Я увидела в этом историю о том, как ребенок вершит возмездие доступными ему средствами за то, что взрослый его предал. А моя ситуация была в том, что отец тоже оставил семью без помощи, вычеркнул нас из своей жизни. И в своих самых потаенных мыслях и прокручивала идею возмездия.
Женя убедил меня в том, что нужно писать пьесу про меня и Павлика. Без того, в чем я ему призналась в порыве откровенности, это не будет настоящим высказыванием. И я поняла, что донос в форме художественного произведения, если вообще его можно назвать доносом, это, наверное, самый прямой путь работы с несправедливостью. Если нет возможности достучаться до человека в реальной жизни, то сделать это в художественном произведении. Пусть не в буквальном смысле, зато надолго, и при большом количестве свидетелей – зрителей.

- Наладились ли у вас отношения с отцом?
- Нет, он воспринял этот спектакль как предательство, хотя он его никогда не видел, ему о нем только рассказывали. Мы очень много лет не общались, а когда однажды я его встретила в метро и пригласила к нам, он сказал: «Нет, я никогда не приду». Я говорю: «Этот спектакль о любви. На самом деле мной двигала любовь и за всем этим стоит моё желание с тобой поговорить, восстановить отношения», но он так и не решился.
- Легко ли тебе было оголять свою личную семейную драму?
- Травма любит тишину. Если ты о ней молчишь, она разносит споры по всему организму. Когда тебя бросают, предают, оставляют беспомощным, об этом совершенно не хочется никому говорить – особенно подростку. Это как будто бы делает тебя не классным. А тут получился настоящий вин-вин: наделив свою героиню этой болью, я смогла освободиться от нее. А зрители, с которыми происходило что-то похожее, получили свою долю освобождения. Жертве всегда стыдно, но, когда другой рассказывает о подобном опыте вслух, он делает это как будто и за тебя. Каждый раз после спектакля «Павлик – мой Бог» мы общались со зрителями, и всегда были люди, которые говорили, что мы сделали спектакль про них – причем находились и отцы, которые говорили, это я, я такой же, как ваш папа. Ну и мы с Женей поняли, что нащупали что-то очень важное. Что только предельная откровенность по отношению к собственному эмоциональному опыту вызывает настоящий отклик.
- У тебя есть братья, сестры?
- Да, у меня есть сестра.
- Она видела спектакль «Павлик - мой Бог»?
- Конечно, много раз. Образ сестры и мамы есть в спектакле, они видели его неоднократно. Когда это перестает быть печальным фактом твоей биографии, а обретает форму высказывания и художественного произведения, оказывается, что эта боль была не зря. Появляется смысл. В твою жизнь приходят люди, которые готовы с тобой это разделить. Поэтому ничего плохого, кроме хорошего это не дало.
- Ты что-то могла бы посоветовать другим людям, у кого в семье тоже конфликт?
- Мне кажется, художественное пространство – это единственно безопасное место для диалога, особенно сегодня, когда вся наша жизнь рушатся. Но вовсе не обязательно напрямую контактировать с болью. Когда идет речь, скажем, о настоящем ПТСР это противопоказано. В современном театре в последние годы появилось немало наработанных инструментов, как создать общее поле, где могут взаимодействовать люди, которые ни в каких иных обстоятельствах не встретятся и не заговорят друг с другом. Все это совершается в рамках работы над неким общим проектом. Например, спектаклем. Это самый человечный, гуманный, безопасный способ взаимодействия, он позволяет не погружаться на территорию конфликта и не выяснять кто прав, кто нет. Находясь внутри общего действа можно быть вместе. Это очень мощная форма совместности, которой так не хватает сегодня.
- Ваш спектакль ещё идёт?
- Уже давно нет. Он шел в театрах долго: с 2008 года по 2014. Спектакль пережил несколько составов и несколько площадок: он шел в Театре.doc, затем в Гоголь Центре. И там он был полностью пересобран, с актерами театра.
- Над чем вы работали после «Павлика»?
- Проводила лабораторию «Код города. Первоуральск». На выходе ребята, не имеющие или почти не имеющие профессионального опыта должны были приступить к съемкам документального фильма. Мы работали, в первую очередь, с замыслами – почему одна идея является личинкой будущего кино, а другая – нет, имею ли я право на эту историю что нужно добавить, чтобы все получилось. В работе автора очень много интимного, невыразимого, а формат лаборатории заставляет брать в союзники слова и конкретные формулировки. Это мучительно сложно, но спасает то, что ты не один – все эти дни ты находишься в нескончаемом диалоге с остальными участниками процесса. Как правило в эти дни ты не можешь заниматься больше ничем и даже сон – это роскошь. Это невероятный выброс энергии. Дней через пять мозг начинает дымиться, но, как ни странно, выдавать все более удачные идеи, причем и для себя, и для других. Ведь кино – это всегда командная работа, и задача участников таких лабораторий – вкладываться в чужие проекты и брать их предложения для своего замысла. За редким исключением если ты не участвуешь в этом товарообмене, ты остаешься на выходе без результата. После такого марафона мне нужно минимум неделю, чтоб прийти в себя.

- Это был твой первый опыт преподавания?
- Нет. У меня довольно короткий зазор между тем, что я начала сама писать и учить этому других. В начале 10-х годов в российском театре и кино возникла огромная потребность в новых тьюторах и кураторах. Появилось огромное количество междисциплинарных проектов, для которых не работали прежние схемы, поэтому оказались очень востребованы молодые специалисты с опытом работы на стыке разных видов искусств. Наше кинообразование по-прежнему очень конвенционально, если говорить о ВГИКе и о ВКСР. Плюс в какой-то момент индустрия стала расширяться такими темпами, что имеющиеся киношколы не были способны ее обеспечить нужным количеством профессионалов. Появилось очень много независимых институций параллельно, и это здорово. Был проект «Культбюро», который делала Анна Гудкова, внутри которого рождались художественные и документальные фильмы, кинолагерь «Generation campus», участники и преподаватели которого приезжали со всего света. В их числе ведущие кураторы европейских кинолабораторий – таких, как Berlinale talent campus, Torino Film lab и многие другие. Это воспринималось как норма, мы чувствовали себя вписанными в мировой процесс, частью комьюнити молодых кинематографистов, встречались на воркшопах и фестивалях в разных странах. И я с радостью делюсь этим опытом на своих воркшопах.
- Какие впечатления оставил Первоуральск?
Я ехала туда заранее с хорошим чувством, ведь я люблю Екатеринбург. Ебург – место природной аномалии, где на одном небольшом географическом отрезке родилось подозрительно большое количество талантливых людей. Первоуральск показался городом контрастов – современный крутой завод и ощущение богом забытого места. Участниками были ребята, которые хотели изменений в своей жизни, оставаясь в своем регионе, делать что-то новое и классное.

- Ты участвовала в выборе участников?
- Да, конечно, по творческому заданию. Удивительно, как все понятно между строк о человеке, даже если это совсем не тот результат, который ты ожидал и мог прогнозировать. Если человек личность, это не скрыть ничем.
- После картины «Код города. Первоуральск» ты над чем работала?
- Я писала пьесы, сценарии. Параллельно мы с Женей сделали спектакль «Сталкер» для Гоголь-Центра, когда учились в магистратуре у Кирилла Серебренникова. Было задание – сделать спектакль по фильму – и почему-то мы замахнулись на Тарковского. Я не понимаю, что было в наших головах, но в тот момент казалось, что чем сложнее задача, тем интереснее. Я нашла первую редакцию сценария, которая называлась «Машина желаний», которая довольно сильно изменилась при работе братьев Стругацких с Тарковским. Нам захотелось вернуться к тем смыслам, которые были в той редакции. Получился мир времен постапокалипсиса, в который погрузилось человечество после ядерной катастрофы, где все яркие переживания возможны только в виртуальном пространстве. Там же, внутри компьютерной игры, герои под руководством сталкера отправляются к машине желаний, в надежде, что они будут исполнены. Все заканчивается новым ядерным взрывом – на этот раз окончательным. Его устроил ученый, чтобы окончательно закрыть вопрос о том, кому будет принадлежать мир. Мы старались снизить историю до уровня обычного человека – такого же, как мы с вами, его слабостей, страстей и попыток найти собственный смысл жизни.

- Почему вы решили учиться у Кирилла Серебренникова?
- Только что появился театр Гоголь-Центр. Было ясно, что это замечательное место и там будет кипеть жизнь. У меня не было театрального образования и казалось, что это классный способ наверстать упущенное, уже будучи взрослым человеком. И действительно, Гоголь-Центр был тогда тем самым магнитом, к которому всё притягивалось. Примерно так же, как в «Сталкере» все шли в зону к машине желаний. Гоголь-Центр был той самой машиной желаний: я поступала туда с надеждой измениться к лучшему, научиться новому языку и это желание было исполнено. Это был бесценный опыт.
- Расскажи немного о себе.
- У меня недавно вышел сериал, чёрная комедия на KION под названием «Секреты семейной жизни» с Алёной Михайловой и Петром Скворцовым в главных ролях. В том же году у меня вышел спектакль в кемеровском театре драмы «История от Матвея». Но так вышло, что наши с Евгением Григорьевым проекты самые личные и самые долгие. Мы параллельно стали писать сценарий полного метра «Подельников» еще на излёте того времени, когда шел «Павлик». Тогда казалось, что мы сделали спектакль, и сразу же снимем фильм, но все, мягко говоря, затянулось. Но это и к лучшему: когда мы только начинали, меня не оставляло чувство, что мы не равны замыслу, что он свалился откуда-то сверху как подарок. Так что мы росли вместе с ним и доросли.
- В «Подельниках» уже совсем зеркальная история отцов и детей как в «Павлике», только наоборот.
- Да, мы с Женей долго про это смеялись: «Сейчас мы исчерпаем пап, про что нам дальше писать?». В фильм вошло очень много личного, непосредственно того, что было в жизни Жени – образы его соседей, бытовые обстоятельства, в которых он рос, сложносочиненная иерархия в русской деревне. Он мне рассказывал то, что ему казалось естественным и само собой разумеющимся, а я выступала как посредник между тем мирами. Как сделать эту историю близкой для тех, у кого нет подобного опыта, и кто не считывает эти микросигналы. Я никогда не жила в деревне, я не занимаюсь биатлоном, но в итоге получилось так, словно я провела там альтернативную жизнь. Я знаю каждый миллиметр этой истории: как обставлены дома героев, какая у каждого из них потаенная печаль, что было у каждого из них в прошлом. Мне жаль, что не вошла предыстория директора школы – в молодости она потеряла ребенка и больше не стала мамой, это рассказывалось одним кадром, когда она на кладбище приходила на детскую могилу.
- Вы были в экспедиции?
- Нет, я в Кыну никогда не была, но я опиралась на свой опыт журналиста. В своё время я очень много ездила по России, когда писала пьесу про Павлика, была в Герасимовке. В этом смысле героиня Насти – моё альтер эго. Я смотрю на это все глазами чужестранки, внешнего наблюдателя. Помимо того, что мы с Женей усложняли, расширяли, придумывали это вселенную, мы очень много обсуждали механику этого мира: как там всё устроено, что герои думают друг о друге на самом деле, чего боятся. Важно было, чтобы зрители поверили – почему все так боятся Витю и почему молчат. Чем отличается драматургия компьютерной игры от драматургии фильма? Драматургия компьютерной игры примерно в шестьдесят раз больше и шире. Для нее нужно придумать действительно Вселенную. Твой герой может выйти за экран и ты должен знать, что будет в бесконечности на север, на запад и так далее. А в фильме проще: на что у тебя направлен объектив, то и должно быть хорошо простроено. Но на самом деле, должно быть известно гораздо больше, и нас с Женей действительно, унесло до масштабов компьютерной игры. Получилась бесконечная история: мы прописали историю мальчика, отношения его мамы и папы, как они оказались в этом месте. Мама у нас оказалась приезжей. Папа – не просто деревенский художник, а с амбициями: он хотел стать большим художником, но потерпел фиаско и не смог с этим смириться. История спортивных неудач Петра и его женитьбы на Насте. Это были целые исписанные километры текста.
- Вы не хотите написать продолжение «Подельников»: что случилось с героями фильма после, или наоборот, детство персонажей и Вити Людоеда?
- Это будет повтор, и неизбежно слабый повтор. Потому что всё-таки самое мощное, заряженное событие – это убийство. Нужно идти дальше и делать что-то новое, а не брать ребро этого фильма и пытаться из него кого-то вылепить. Для меня эта история закончилась.
- Кто тебе больше всего интересен, дорог из персонажей «Подельников»?
- Мне очень сложно ответить на этот вопрос. Как автор я люблю всех персонажей и каждый из них – частичка моего я. Конечно, мальчик для меня всегда был центром этого мира. Он и его жажда мести. Снова детское возмездие – почти как в пьесе. Но и Петр очень важен, если бы он не приехал, Илья попытался бы напасть на Витю и был им убит. Мне нравится, что Петр не рыцарь, который искал применение своему доброму сердцу. Он не хотел вмешиваться, и до последнего хотел остаться человеком со стороны. Но произошло то событие, после которого если бы он остался безучастен, он остался бы подлецом. Но и Витя Людоед мне, конечно, тоже бесконечно интересен несмотря на то, что где Витя, а где я. Но я очень хорошо его за это время поняла, приняла, хотя и не оправдываю ни на грамм. Я считаю, что у насилия нет оправдания и насильник всегда виновен, но попробовать найти человеческое объяснение такой жестокости – задача очень важная. Ведь внутри себя убийца всегда прав, он считает, что другого выбора у него не было. Этот феномен мне очень интересен.
- Какие у тебя творческие планы, есть ли жизнь после «Подельников»?
- Работа над сценарием «Подельников» окончена два года назад, я уже давно занимаюсь другими вещами: пишу сценарии, недавно я начала писать роман. Драматургия, сценарное дело прекрасны, но во многом утилитарны. Это деятельность, которая станет основой для работы других людей. А мне интересно поработать самой с собой, без участия других. Поэтому это территория абсолютной свободы.
- О чём роман?
- Я пока не буду говорить.
- Ты уже закрыла тему отцов и детей?
- Нет, я не верю, что какую-то тему можно закрыть. Мне кажется, что у всех нас есть точки боли, которые становятся точками роста. Жизнь так устроена, что подбрасывает новые точки боли, которые неизбежно становятся точками нового роста. Но и старая до конца не уходит. Новая травма всегда ложится на прежнюю травму, и они дребезжат вместе. Я не думаю, что эти источники когда-нибудь закончатся. Больше того, я не верю, что есть люди, которые пошли к психотерапевту и вылечились. Мне кажется, что в нынешней реальности это невозможно, тем более сейчас, когда боль просто нестерпимая. Нам потребуется очень много времени, чтобы это осознать.
- Ты упомянула, что работала журналистом. Расскажи подробнее.
- В начале нулевых я работала на телевидении и мы делали документальные фильмы-репортажи на социальные темы, герои которых переживали трудные времена. Благодаря этой работе мне посчастливилось побывать в разных уголках России и увидеть своими глазами то, как живут люди в одной со мной стране. Когда ты погружаешься в эту реальность физически, твое мироощущение меняется навсегда. Мне кажется, что работать в России со словесностью, делать творческие проекты, не зная, что творится вокруг невозможно.
- Опыт журналистики пригодился в литературной работе?
- Да, безусловно. Во-первых, это речь – в Москве говорят сильно не так, как в других местах. А во-вторых, это вопрос точки отсчета. Когда ты в западной Сибири, Москва не вполне существует, это почти что планета Марс. Невозможно игнорировать эту форму реальности, не выходя из своего «пузыря» годами.
- Ты сказала, что родилась и выросла в центре Москвы. Кто у тебя родители?
- Моя мама по образованию философ, папа журналист. Они люди гуманитарных профессий и я тоже пошла в журналистику потому, что была перестроечным ребенком, напитавшимся духом свободы в конце 80-х и в 90-е. Несмотря на то, что я была школьницей, я очень хорошо помню это время, эти перемены. Мне казалось, что вокруг происходит что-то очень важное и нужно побыстрее вырасти, чтобы иметь к этому отношение, успеть прожить свою жизнь так, как никто в нашей стране ее раньше не жил. Надеюсь, частично мне это удалось. У меня есть пьеса, которая называется «История от Матвея» - она как раз про Перестройку, про начало 90-х, про те мечты, которые у нас были. И про то, как в итоге всё поменялось совсем не в ту сторону, которую можно было ожидать. Пьеса была недавно поставлена, и меня поразила реакция зрителей в зале. Оказывается, есть большой запрос у зрителей к рефлексии на тему истории, у людей очень много непрожитого горя, разрушенных надежд. Люди подходили ко мне после спектакля с заплаканными лицами и говорили, как важно посмотреть назад и пожалеть себя. Что мы прожили эти годы так, как смогли, не успев толком понять, что происходит. Мне было удивительно, что зал был наполовину взрослый, а наполовину очень юного возраста. Были совсем молодые ребята, которые ничего не знают про то время, они не знают, что такое Yupi долей воды, не знают, что такое первые джинсы и какое это фантастическое счастье. У них не было продовольственного перелома: когда ты жил в одной реальности, а потом на тебя хлынули все эти товары и ты решил, что это и есть свобода и едва не сошел от счастья, несмотря на то, что это всё было поначалу недоступно. Но и эти молодые ребята прониклись и мне кажется, что 90-е — это время, которое нам еще предстоит осмыслить. Я уверена, что все эти перемены были не зря.
Беседу вела Ирина Штефанова